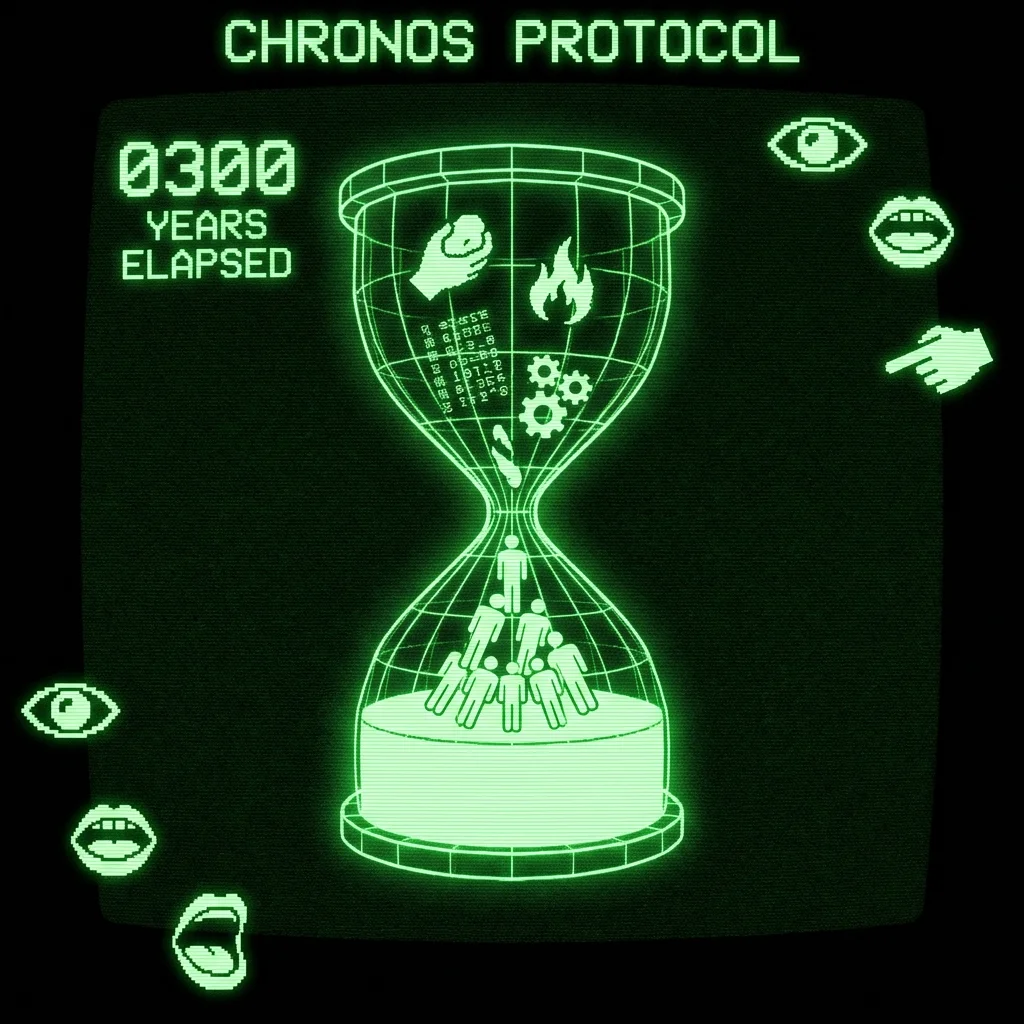TL;DR
- Дарвин утверждал, что эволюция человека формировалась социальными силами после появления языка.
- Дарвин полагал, что значительные эволюционные изменения (моральные, социальные) происходили быстро, в пределах исторических временных рамок (века, а не эоны).
- Он рассматривал человечество как недавно вышедшее из “варварского” состояния, с традициями и мифами, сохраняющими отголоски прошлых селекционных давлений.
Язык, репутация и приспособленность у ранних людей#
Чарльз Дарвин считал, что как только ранние люди стали социальными, а особенно после развития языка, управление репутацией (забота о том, как тебя оценивают другие) стало ключевым фактором в естественном отборе. В Происхождении человека Дарвин определяет “похвалу и порицание наших собратьев” как мощный стимул, формирующий моральное поведение. Он утверждает, что социальные инстинкты людей (такие как симпатия) привели их к любви к похвале и страху перед порицанием, тем самым изменяя их поведение. Даже “самые грубые дикари чувствуют чувство славы, что они ясно показывают, сохраняя трофеи своей доблести… и своей привычкой к чрезмерному хвастовству” – поведение, которое “было бы бессмысленным”, если бы они не заботились о мнении других. Иными словами, как только коммуникация и групповая жизнь позволили индивидам оценивать друг друга, те, кто стремился к уважению (или избегал стыда), получали селективное преимущество в своих племенах.
Дарвин предположил, что эта тенденция возникла очень рано в эволюции человека. Хотя “мы, конечно, не можем сказать”, насколько рано наши предки стали способны быть движимыми похвалой или порицанием, он отметил, что даже собаки ценят поощрение и порицание от других. Таким образом, элементарное чувство социального одобрения, вероятно, предшествовало полному языку, но с языком эти социальные давления усилились. Дарвин заключил, что “первобытный человек, в очень отдаленный период, был под влиянием похвалы и порицания своих собратьев”, что означает, что забота о репутации – по сути, примитивное моральное чувство – присутствовала у далеких предков человечества. Этот акцент на одобрении других стал, по мнению Дарвина, ключевым фактором приспособленности: члены племени, поддерживающие групповые нормы (заслуживающие похвалу), будут доверены и поддержаны, тогда как те, кто заслуживает порицания, могут быть изгнаны или наказаны. Дарвин подчеркивал, что “почти невозможно преувеличить важность в грубые времена любви к похвале и страха перед порицанием”, поскольку даже человек, лишенный глубокой врожденной альтруистичности, может героически пожертвовать собой “из чувства славы” и таким образом принести пользу своему племени. Такие действия, мотивированные репутацией, вдохновят других и могут перевесить генетический вклад простого наличия потомства. В итоге, Дарвин видел появление языка и социальной коммуникации как превращение социальных инстинктов в мощную эволюционную силу: моральное поведение и управление своей честью или стыдом стали центральными для выживания и размножения в человеческих группах.
Культура как селективная сила: язык, совесть и институты#
В своих трудах Дарвин неоднократно представлял культуру – включая язык, интеллект, мораль и социальные институты – как важную эволюционную силу, направляющую развитие человека. Он утверждал, что естественный отбор первоначально наделил людей социальными инстинктами, такими как симпатия, но как только общества сформировались, культурные факторы начали формировать направление человеческой эволюции. В Происхождении человека Дарвин описывает, как со временем простые социальные инстинкты породили сложную человеческую совесть через взаимодействие с культурными обстоятельствами: “В конечном итоге наше моральное чувство или совесть становится очень сложным чувством – происходящим из социальных инстинктов, в значительной степени направляемым одобрением наших собратьев, управляемым разумом, личной выгодой, а в более поздние времена глубокими религиозными чувствами, и подтверждаемым обучением и привычкой”. Здесь Дарвин очерчивает взаимодействие гена и культуры: наши врожденные инстинкты предоставляют основу, но совесть уточняется размышлениями о последствиях, религиозными или философскими учениями и образованием и привычками, передаваемыми в обществе.
Важно, что Дарвин утверждал, что социальное обучение и институты становятся доминирующими движущими силами “приспособленности” в цивилизованных обществах, даже если биологическая эволюция продолжается более тонко. Он наблюдал, что в “высоко цивилизованных нациях” прямой естественный отбор менее интенсивен, чем среди дикарей (поскольку современные общества не уничтожают друг друга в войне постоянно). Вместо этого дифференциальный успех приходит через культурные средства. По словам Дарвина, “более эффективные причины прогресса” для цивилизованных людей – это “хорошее образование в юности… и высокий стандарт совершенства, внушаемый самыми способными и лучшими людьми, воплощенный в законах, обычаях и традициях нации, и подкрепляемый общественным мнением”. Вкратце, образование и социальные нормы (само по себе продукт языка и коллективного знания) в значительной степени определяют, какие индивиды и группы процветают. Общественное мнение – по сути, одобрение или неодобрение сообщества – поддерживает поведение, ведущее к успеху. Однако Дарвин осторожно отмечает, что даже это подкрепление общественным мнением восходит к биологии: “поддержание общественного мнения зависит от нашей оценки одобрения и неодобрения других; и эта оценка основана на нашей симпатии, которая… изначально развивалась через естественный отбор как один из важнейших элементов социальных инстинктов”. Таким образом, культурная эволюция (мораль, законы, институты) опирается на биологически эволюционировавшие тенденции (симпатия и социальное одобрение).
Дарвин также понимал язык как продукт и двигатель эволюции. Он ссылался на современных филологов, которые показывали, что “каждый язык несет следы своего медленного и постепенного развития”, аналогичного биологической эволюции. Язык позволял лучшую координацию, передачу знаний и формирование абстрактных идей, таких как долг или справедливость – все это влияло на отбор. Например, общий язык позволяет племени развивать коллективную совесть и традиции, которые могут улучшить его сплоченность и успех. По мнению Дарвина, как только люди развили даже примитивный язык и мышление, культурный отбор начал направлять наши интеллектуальные и моральные способности. В примечательном отрывке он предполагает, что если один умный человек изобрел новый инструмент или оружие, “простая личная выгода” побудила бы других его имитировать; те племена, которые приняли полезные инновации, распространились бы и заменили другие. Это культурный прогресс, влияющий на выживание. Более того, племена с лучшим управлением и социальной сплоченностью (что Дарвин называет преимуществами “послушания” и организации) превосходили бы беспорядочные. Мы видим здесь признание Дарвина, что институты (формы правления, нормы послушания и сотрудничества) имеют эволюционные последствия. В итоге, Дарвин представил человеческую эволюцию как двухуровневый процесс: естественный отбор дал нам способность к языку, социальным чувствам и интеллекту, а затем эти способности позволили культурной эволюции – фактически, новой селективной среде – занять видное место. Человеческий прогресс стал все более управляемым идеями, моралью и социальными структурами, которые могли быстро изменяться и таким образом приводить к эволюционным результатам на гораздо более коротких временных масштабах, чем типичная биологическая эволюция.
Цивилизация над дикостью: моральный прогресс от варварских предков#
Дарвин был убежден, что современные цивилизованные люди только недавно удалились от “дикого” состояния, и что цивилизация – это тонкий слой над более старой варварской природой. Он привел антропологические доказательства, чтобы показать, что все цивилизованные нации когда-то были варварскими и постепенно возвышались. В Происхождении человека Дарвин категорически отвергает мнение некоторых современников (таких как герцог Аргайл или архиепископ Уэйтли), что ранние люди начали в продвинутом, цивилизованном состоянии и позже деградировали. Он называет их аргументы слабыми по сравнению с доказательствами “что человек появился в мире как варвар” и что очевидные случаи деградации значительно уступают случаям прогресса. Для Дарвина это был “более истинный и более радостный взгляд, что прогресс был гораздо более общим, чем регрессия”, с человечеством “поднявшимся, хотя и медленными и прерывистыми шагами, от низкого состояния к высшему стандарту, который пока достигнут… в знаниях, морали и религии”. Этот эволюционный гуманизм – идея морального и интеллектуального прогресса со временем – пронизывает интерпретацию истории Дарвином.
Ключевым моментом является то, что Дарвин полагал, что многие моральные или психологические изменения произошли в относительно недавнем прошлом (в пределах веков или тысячелетий, а не эонов). Он указывал, что некоторые добродетели, которые мы сейчас считаем фундаментальными, когда-то отсутствовали. Например, такие черты, как умеренность, целомудрие и предусмотрительность, были “совершенно игнорированы” в ранние времена, но позже стали “высоко цениться или даже считаться священными” по мере продвижения цивилизации. Это подразумевает быструю культурную эволюцию морали по мере перехода людей от племенных обществ к большим цивилизациям. Дарвин приводит пример, что ни один древний народ изначально не был моногамным; строгая моногамия – это недавнее развитие в цивилизованном мире. Точно так же сама концепция справедливости претерпела трансформацию: “примитивное представление о справедливости, как показано законом битвы и другими обычаями… было самым грубым”, что означало, что ранние общества часто решали споры с помощью боя или мести, а не абстрактными принципами. Со временем такие грубые практики уступили место более утонченным этическим и правовым нормам. По словам Дарвина, “высшая форма религии – великая идея Бога, ненавидящего грех и любящего праведность – была неизвестна в первобытные времена”. Ранние религии были переплетены с суевериями и не обязательно способствовали моральному добру, тогда как более поздняя религиозная мысль (в “высших” верованиях) включала сильные этические элементы. Все эти изменения – в брачных обычаях, справедливости и религии – произошли в пределах человеческой истории.
Изучая “дикие” общества и исторические записи, Дарвин считал, что мы можем буквально увидеть наши более ранние “я”. Он отмечает, что “многие существующие суеверия – это остатки прежних ложных религиозных верований”, сохранившиеся даже в современных обществах. И значительно, Дарвин верил, что “стандарт морали и количество хорошо одаренных людей” в обществе может повыситься в пределах исторических времен благодаря конкуренции групп. Если одно племя или нация имели культурные черты, которые поощряли больше патриотизма, верности, послушания, мужества и симпатии, оно “победит большинство других племен; и это будет естественный отбор”. История, по мнению Дарвина, была непрерывной серией таких борьбы – “во все времена по всему миру племена вытесняли другие племена; и поскольку мораль является важным элементом их успеха, стандарт морали… таким образом, везде будет стремиться к повышению”. Это поразительное утверждение: оно предполагает, что в пределах нескольких поколений или веков общество с превосходной “моральной конституцией” может распространиться за счет других, тем самым быстро повышая человеческую моральную природу на эволюционной шкале времени.
Дарвин признавал, что прогресс не был автоматическим или универсальным. Некоторые популяции застаивались на длительные периоды. Он наблюдал, что “многие дикари находятся в том же состоянии, что и при первом открытии несколько веков назад”, предупреждая нас не рассматривать прогресс как неизбежный. Экологические и социальные факторы должны были совпасть для продвижения. Тем не менее, общая траектория, которую он видел, была восходящей. “Цивилизованные нации”, вооруженные наукой, образованием и просвещенными институтами, представляют собой недавнее завершение этого подъема от варварства. И значительно, Дарвин не видел фундаментального биологического барьера между “диким” и “цивилизованным” человеком – только разницу в степени и культуре. Цивилизованный человек сохраняет “неизгладимый отпечаток своего низкого происхождения”, как Дарвин знаменитым образом выразился, что означает, что наше наследие инстинктов и страстей все еще просвечивает сквозь слой утонченности. Вкратце, Дарвин изображает цивилизацию как недавний слой культурной эволюции, построенный на гораздо более старой основе, с явным намеком на то, что наши моральные и умственные способности могут значительно измениться за короткое эволюционное время при наличии правильных давлений.
Взгляды Дарвина на короткие эволюционные временные рамки#
Одной из самых интригующих позиций Дарвина является его готовность принять эволюционные изменения на удивительно коротких временных отрезках, когда дело касалось людей. В отличие от медленного процесса естественного отбора на протяжении геологических эпох, человеческая эволюция – особенно в умственных, моральных и социальных чертах – могла, по мнению Дарвина, происходить за считанные века или тысячелетия. Он смотрел на историю и видел естественный отбор в действии в пределах исторического времени, производящий наблюдаемые различия между народами. Например, Дарвин приписывал быстрый рост Соединенных Штатов в восемнадцатом и девятнадцатом веках селективным процессам, действующим всего за несколько сотен лет. “Есть, по-видимому, много правды,” писал он, “в убеждении, что удивительный прогресс Соединенных Штатов, а также характер народа, являются результатами естественного отбора; поскольку более энергичные, беспокойные и смелые люди из всех частей Европы эмигрировали за последние десять или двенадцать поколений в эту великую страну и там добились наибольшего успеха.” Здесь Дарвин явно сжимает эволюционный эффект в “десять или двенадцать поколений” (примерно 250–300 лет). В этот короткий промежуток времени, по его мнению, своего рода сортировка и дифференциальный успех личностей сформировали характер целой нации – явный пример быстрого эволюционного изменения, вызванного культурной миграцией и конкуренцией.
Дарвин также рассматривал, как быстро менялись судьбы между человеческими группами. Он отметил, что не так много веков назад Европа была под угрозой со стороны Османских турок, но к его времени (конец 19 века) европейские державы значительно превзошли Османскую империю. В частном письме 1881 года Дарвин указал на это как на доказательство естественного отбора, действующего в цивилизации: “Помните, какой риск нации Европы подвергались, не так много веков назад, быть подавленными турками, и как нелепо сейчас это кажется. Более цивилизованные так называемые кавказские расы победили турок в борьбе за существование.” Затем он экстраполировал эту тенденцию в будущее, предсказывая, что “в недалеком будущем бесчисленное количество низших рас будет уничтожено высшими цивилизованными расами по всему миру.” Действительно, в Происхождении человека Дарвин опубликовал аналогичное (и теперь печально известное) предсказание: “В какой-то будущий период, не очень отдаленный по меркам веков, цивилизованные расы человека почти наверняка истребят и заменят дикие расы по всему миру.” Временные рамки Дарвина – “не очень отдаленные по меркам веков” – подчеркивают его веру в то, что несколько сотен лет достаточно для значительного эволюционного оборота в человечестве. Эти замечания, хотя и вызывают беспокойство у современных читателей, иллюстрируют логику Дарвина, что технологические и социальные преимущества (продукт культуры) быстро переводятся в репродуктивные и выживательные преимущества в глобальном масштабе. Он видел силу цивилизации как настолько великую, что она быстро (в эволюционных терминах) заменит менее “цивилизованные” образ жизни, так же как более приспособленные разновидности заменяют более слабые в природе.
Важно отметить, что Дарвин не рассматривал такие процессы как полностью благоприятные. Он осознавал, что цивилизация также изменяет или ослабляет некоторые давления естественного отбора. В Происхождении он наблюдал, что в цивилизованных обществах слабые и немощные часто защищены, а не уничтожены, и “мы делаем все возможное, чтобы сдержать процесс устранения; мы строим приюты для слабоумных, увечных и больных… и вакцинируем, чтобы сохранить жизнь”, и т.д. Он признавал, что “за исключением случая с самим человеком, едва ли кто-то настолько невежественен, чтобы позволить своим худшим животным размножаться”. Это означало, что действие естественного отбора было затруднено, потенциально позволяя “дегенерации” определенных черт. Однако Дарвин не призывал отказаться от сострадания; вместо этого он утверждал, что импульс помогать беспомощным является следствием наших социальных инстинктов, и “терпеть несомненно плохие последствия выживания и размножения слабых” – это просто цена, которую мы платим за нашу самую благородную часть, симпатию. Вывод заключается в том, что даже в случаях, когда естественный отбор замедлялся, культурные силы (такие как этика и сострадание) вмешивались, сами становясь эволюционными факторами.
В целом, предположения Дарвина о временных рамках были смелыми: он был готов интерпретировать различия между человеческими группами как продукт всего лишь десятков поколений отбора. Будь то обсуждение появления более энергичного американского народа, упадка империи или потенциального исчезновения племенных обществ, Дарвин последовательно подчеркивал, как быстро эволюция могла действовать, когда она была вызвана интенсивной конкуренцией или новыми средами. Человеческая эволюция, по его мнению, не остановилась в далеком прошлом – она продолжалась и ускорялась самими изменениями (миграция, войны, социальная структура), которые определяют человеческую историю.
Традиции и мифы как остатки варварских селекционных давлений#
Дарвин верил, что культурные традиции и древние мифы часто сохраняют отголоски нашего варварского прошлого, включая жестокие селекционные давления, с которыми сталкивались ранние люди. В своем обзоре доказательств того, что цивилизованные народы произошли от дикарей, он указывает на “ясные следы их прежнего низкого состояния в все еще существующих обычаях, верованиях, языке и т.д.” Многие обычаи, которые сохраняются как ритуал или история, были, по мнению Дарвина, когда-то буквальными практиками в более раннюю эпоху. Например, Дарвин (опираясь на работы антропологов, таких как Дж. Ф. Макленнан) отмечает, что “почти все цивилизованные нации все еще сохраняют следы таких грубых привычек, как насильственное захват жён”. В современных брачных церемониях или фольклоре могут быть остаточные инсценировки захвата невесты; это намекает на то, что в далеком прошлом похищение жен и племенные набеги были реальными и распространенными, формируя эволюцию социальных поведений (таких как мужские альянсы, агрессия или женский выбор). Точно так же Дарвин задается риторическим вопросом: “Какая древняя нация может быть названа, которая изначально была моногамной?”, предполагая, что универсальные истории о ревнивых богах и гаремах или полигамные устройства мифических героев отражают раннее полигамное состояние человеческого общества. Переход к моногамии во многих культурах наложил бы новые селекционные давления (например, большее отцовское участие или сексуальная конкуренция в других формах), и старые мифы – это окно в прежнюю реальность.
Возможно, самым поразительным примером, который приводит Дарвин, является область религии и морали: человеческие жертвоприношения, практика, почти уничтоженная ко времени Дарвина, сохраняется в историях и писаниях цивилизованных народов. Дарвин цитирует наблюдение профессора Шаффгаузена о “остатках человеческих жертвоприношений, найденных как в Гомере, так и в Ветхом Завете”. Действительно, классические греческие эпосы и Библия содержат намеки (такие как жертвоприношение Ифигении Агамемноном или почти жертвоприношение Исаака Авраамом), что в более ранние времена люди действительно приносили человеческие жизни, чтобы умилостивить богов. Дарвин видел эти остаточные ссылки как важные доказательства: они указывают на то, что даже наши прямые предки в “цивилизованных” линиях прошли через дикое состояние, где такие жестокие практики были адаптивными или нормативными. Например, ритуальные жертвоприношения могли служить для объединения племени или устрашения врагов – оказывая отбор на определенные психологические черты (такие как фанатизм, послушание или групповое соответствие), которые сохранялись до тех пор, пока не развились новые социальные нормы. Эхо детских жертвоприношений в мифах (как в истории Авраама, которая в конечном итоге запрещает это, но ясно помнит это) предполагает для Дарвина, что “история почти каждой нации представляет собой указания на прохождение через период варварства”, где экстремальные практики были обычными. Даже суеверия и народные верования, пишет он, “являются остатками прежних ложных религиозных верований”, сохраненными как культурные ископаемые. Многие табуированные обычаи (например, ритуальный каннибализм или детоубийство в мифах или легендах) вероятно, по мнению Дарвина, когда-то были реальными поведениями, которые давали некоторое преимущество в выживании в суровой среде – возможно, контролируя численность населения или устрашая соперников – и только позже они были устранены и запомнены с ужасом.
Собственная теория Дарвина о сексуальном отборе также находила поддержку в культурных остатках. Мифы о героях, захватывающих невест, или легенды о женщинах, выбирающих храбрецов и певцов, отражали то, что он считал вероятным происходившим в доисторические времена, влияя на эволюцию человеческих инстинктов и даже физических различий. Он также приводит искусство счета как пример культурной практики, сохраняющей свои примитивные истоки: тот факт, что мы все еще говорим “двадцатка” для 20 или имеем остатки счета на пальцах в наших числовых системах, показывает, что ранние люди буквально считали на своих пальцах и пальцах ног. Этот безобидный пример подчеркивает более широкую точку зрения: аспекты культуры могут оставаться долго после их первоначального контекста, действуя как подсказки к селекционным давлениям прошлого. В синтезе Дарвина ничто в человеческой природе не было необъяснимым или “просто данным” – оно имело либо текущую полезность, либо историческую причину для существования. Традиции и мифы, следовательно, были данными, которые можно было использовать для понимания человеческой эволюции. Они рассказывали о времени, когда поведение, теперь считающееся аморальным или странным, было, фактически, адаптивными ответами на вызовы выживания.
В заключение, Дарвин читал человеческие обычаи как палимпсест: под поверхностью наших церемоний, историй и слов лежат выцветшие, но читаемые записи “прежнего низкого состояния”. Практики, такие как захват невест, кровная месть, испытание боем или человеческие жертвоприношения, оставили свои следы в культурной памяти, и Дарвин использовал эти следы, чтобы подкрепить свой аргумент о том, что наши предки жили в диком состоянии на протяжении веков. Это глубокое прошлое, хотя и жестокое, заложило основу для быстрого морального развития, которое последовало. Признавая эти остатки, Дарвин показал, как гены и культура взаимодействовали на протяжении времени – с тем, как старые культурные практики формировали биологию (через отбор определенных черт), и как более поздние биологические тенденции (такие как наши социальные инстинкты) давали начало новым культурным формам.
Источники#
- Дарвин, Чарльз. Происхождение человека и половой отбор, 2-е изд. Лондон: Джон Мюррей, 1874. (Первое издание 1871). — Особенно главы IV и V, которые обсуждают развитие морального чувства, социальные инстинкты и доказательства примитивного происхождения человечества. Слова самого Дарвина цитируются обширно выше, с указанием страниц издания 1874 года (например, стр. 131–145).
- Дарвин, Чарльз. Письмо Уильяму Грэму, 3 июля 1881 года, в Жизнь и письма Чарльза Дарвина, ред. Фрэнсис Дарвин, т. 1. Лондон: Джон Мюррей, 1887, стр. 315–317. — В этой частной переписке Дарвин размышляет о Кредо науки и утверждает, что естественный отбор активно формировал прогресс человека в недавней истории, ссылаясь на триумф европейской цивилизации над другими. Это письмо предоставляет прямые доказательства веры Дарвина в краткосрочные эволюционные изменения, вызванные культурными факторами.
- Дарвин, Чарльз. Письмо Джону Морли, 14 апреля 1871 года, в Больше писем Чарльза Дарвина, ред. Фрэнсис Дарвин и А. К. Сьюард, т. 1. Лондон: Джон Мюррей, 1903, стр. 241–243. — Дарвин обсуждает происхождение и регулирование морального чувства, отвечая на обзор Морли в Пал Малл Газетт. Он уточняет свои взгляды на совесть как основанную на социальных инстинктах и влияющуюся утилитарными стандартами, что соответствует роли симпатии и общественного мнения в моральной эволюции. (Этот источник проливает свет на мышление Дарвина, стоящее за опубликованным текстом в Происхождении человека.)
- Дарвин, Чарльз. Происхождение человека, 1-е изд. Лондон: Джон Мюррей, 1871. — (Упоминается косвенно через второе издание выше.) Примечательно, что в главе VII (стр. 225) содержится предсказание Дарвина о том, что цивилизованные расы заменят дикие расы. Первое издание является основным источником для часто цитируемой фразы о будущем истреблении “диких рас”, иллюстрируя краткосрочные прогнозы Дарвина в опубликованной форме. (Во втором издании этот отрывок был сохранен с незначительными изменениями.)
FAQ#
Q 1. Считал ли Дарвин, что эволюция человека остановилась? A. Нет. Дарвин верил, что эволюция человека продолжается, ускоренная культурными факторами, такими как миграция, конкуренция между группами и развитие социальных институтов, действующих на коротких временных отрезках (века).
Q 2. Как Дарвин рассматривал взаимосвязь между биологией и культурой в эволюции? A. Дарвин видел взаимодействие гена и культуры. Биология (социальные инстинкты, такие как симпатия) предоставляла основу, но культура (язык, разум, нормы, институты) все больше формировала развитие человека и приспособленность, особенно в цивилизованных обществах.
Q 3. Какую роль играла репутация в представлении Дарвина о ранней эволюции человека? A. Дарвин считал “любовь к похвале и страх перед порицанием” ключевыми. Как только язык позволил социальное суждение, управление своей репутацией стало центральным для выживания и репродуктивного успеха в племенах.