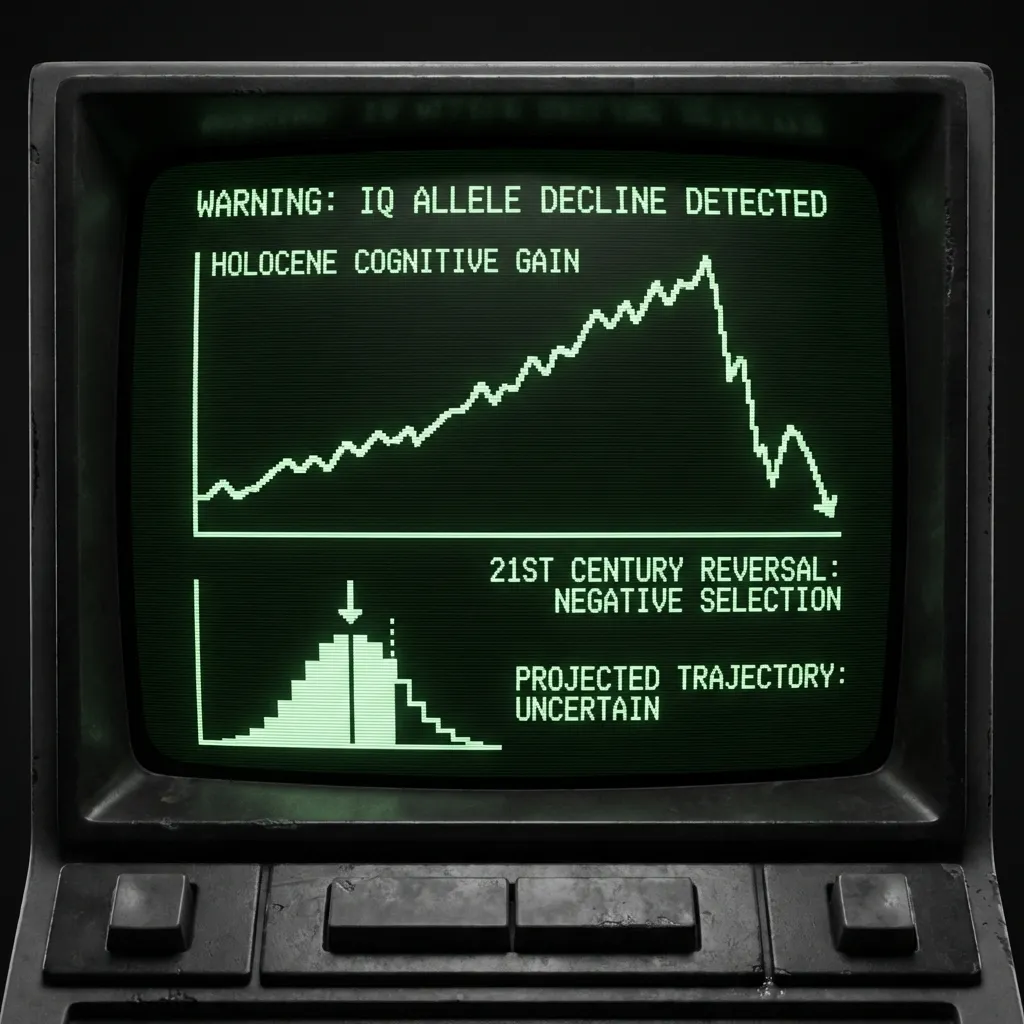Краткое содержание
- Древние временные ряды ДНК показывают рост полигенных баллов для IQ/образовательных достижений на ≈0,5 стандартного отклонения с неолита.
- Тенденции сходятся в Западной Евразии, Восточной Азии и других регионах, в то время как аллели, связанные с невротизмом/депрессией, снизились.
- Уравнение селекционера объясняет, как слабый отбор за поколение накапливается в значительные изменения за более чем 10 000 лет.
- Современные наборы данных показывают недавний разворот (негативный отбор на аллели IQ), доказывая, что эволюция человеческого интеллекта продолжается.
- Утверждения, что “ничего не изменилось генетически в человеческом разуме за 50 000 лет”, противоречат геномным и количественно-генетическим данным.
⸻
Древняя ДНК: Глобальные сигналы когнитивного отбора (2023–2025)#
Недавние исследования древних геномов подтверждают значительный направленный отбор на черты, связанные с интеллектом, на протяжении всего голоцена. Используя временные ряды полигенных баллов (PGS) – индексы генетической предрасположенности к сложным чертам – исследователи отслеживали изменения частоты аллелей у тысяч древних людей. Возникающая картина показывает, что аллели, связанные с более высокими когнитивными способностями, последовательно увеличивались в частоте за последние ~10 000–12 000 лет во многих человеческих популяциях:
- Западная Евразия: Исследование 2024 года около ~2 500 древних геномов из Европы и Ближнего Востока обнаружило “положительный направленный отбор для образовательных достижений (EA), IQ и социально-экономического статуса (SES) за последние 12 000 лет.” Полигенные баллы для EA и IQ значительно увеличились с верхнего палеолита через неолит, что предполагает, что когнитивные требования раннего земледелия и урбанизации оказывали давление отбора на общий интеллект. Интересно, что полигенные баллы для невротизма и депрессии показывают снижение со временем, вероятно, потому что аллели, предрасполагающие к более высокой психической стабильности, “попутно” увеличивались вместе с теми, которые повышают способность к решению проблем (учитывая генетические корреляции между этими чертами). Другими словами, по мере того как гены для более высокого интеллекта росли, гены, связанные с негативным аффектом, как правило, устранялись как побочный эффект.
- Восточная Евразия: Параллельные результаты получены из анализа 2025 года 1 245 древних геномов, охватывающих голоценовую Азию. Он также “наблюдал значительные временные тенденции” с положительным отбором на когнитивные черты – особенно аллели для более высокого IQ и EA – на протяжении восточноевразийской предыстории. То же исследование обнаружило, что эти тенденции были устойчивыми даже после учета демографических изменений (с использованием примесей и географических ковариантов). Интересно, что сообщалось, что аллели, связанные с чертами аутистического спектра, увеличивались (возможно, отражая улучшенное систематизирование или внимание к деталям), тогда как те, что связаны с тревожностью и депрессией, уменьшались, отражая европейский паттерн. Отбор на рост был более контекстно-зависимым, варьируясь нелинейно с климатом – но постоянное увеличение образовательных/связанных с IQ вариантов предполагает широкий, конвергентный эволюционный ответ в обществах, переживающих неолитические переходы.
- Европа (основное воспроизведение): Исследование 2022 года Куйперса и др. собрало полигенные баллы на основе генома для различных черт у древних европейцев, подтверждая, что “после неолита европейские популяции испытали увеличение роста и интеллектуальных баллов,” наряду с уменьшением пигментации кожи. Это исследование в Frontiers in Genetics использовало полигенные индексы на основе GWAS для интеллекта и обнаружило устойчивую восходящую тенденцию в когнитивном потенциале с ~8 000 лет назад. Примечательно, что это согласуется с археологическими данными: неолитическая революция и последующая сложность общества создали новые ниши, где общая когнитивная способность (GCA) была высоко вознаграждена.
- Прямые временные сканирования отбора: В конце 2024 года команда под руководством Акбари и др. (включая Дэвида Райха) представила мощный тест древней ДНК на отбор, ищущий последовательные тенденции частоты аллелей со временем. Применив его к 8 433 древним западным евразийцам (14 000–1 000 лет назад), они идентифицировали “на порядок больше” сигналов отбора, чем предыдущие методы – около 347 локусов с >99% апостериорной вероятностью отбора. Наряду с классическими адаптациями (например, устойчивость к лактозе), они нашли полигенные доказательства направленного отбора на черты, связанные с когнитивными способностями. В частности, авторы сообщают, что “комбинации аллелей, которые сегодня связаны с… увеличенными мерами, связанными с когнитивной производительностью (баллы на тестах интеллекта, доход домохозяйства и годы обучения)” пережили скоординированный рост частоты за голоцен. Например, аллели, улучшающие образовательные достижения, по-видимому, были подвержены сильному отбору у западных евразийцев, особенно после ~5 000 лет назад. Эти находки укрепляют ранние намеки из древней ДНК, что наши предки пережили продолжающиеся генетические улучшения в обучении и способности к решению проблем – даже если точный исторический фенотип (например, лучшая память, инновации или социальная когниция) выводится косвенно.
- Размер мозга и связанные черты: Стоит отметить, что отбор на интеллект не всегда означает отбор на объем мозга как таковой. Парадоксально, но человеческий мозг слегка уменьшился в размере с позднего плейстоцена. Анализ полигенных тенденций подтверждает небольшое снижение генетической предрасположенности к большему внутричерепному объему (ICV) с верхнего палеолита в последние тысячелетия. Это, вероятно, отражает энергетические компромиссы или самодоместикацию (меньшие, более эффективные мозги), а не когнитивное снижение. Действительно, полигенные баллы ICV в Европе показывают лишь небольшую отрицательную корреляцию с возрастом (r ≈ –0,08 за 12 тысяч лет) и отсутствие резких изменений – что согласуется с данными окаменелостей, показывающими ~10% сокращение среднего черепного объема от ледниковых охотников-собирателей до современных людей. Вкратце, наши мозги могли стать немного меньше, но более “оптимизированными по проводке”, в то время как генетический регулятор когнитивной способности все еще двигался вверх через другие пути (например, синаптическая пластичность, гены нейротрансмиссии, развитие лобной коры и т.д.). Показательно, что некоторые из самых сильных голоценовых изменений были в локусах, связанных с нейронным развитием. Например, Х-хромосома показывает доказательства драматических селекционных изменений за последние ~50–60 тысяч лет вблизи генов, таких как TENM1, который участвует в связности мозга; исследователи предполагают, что это может отражать адаптацию в таких способностях, как язык (фонологическая рекурсия) или социальная когниция у Homo sapiens после расхождения с архаичными людьми. В итоге, древняя ДНК дает убедительное опровержение идеи, что “ничего не изменилось” генетически в человеческом разуме – напротив, многие небольшие аллельные корректировки накопились, чтобы произвести нетривиальные изменения в когнитивном наборе инструментов нашего вида за голоцен.
Контраргументы “Нет когнитивной эволюции” (и почему они не выдерживают критики)#
Долгое время антропологической догмой было то, что человеческое мышление достигло пика поведенческой современности около ~50 000 лет назад, без дальнейших значительных биологических изменений с тех пор. Стивен Джей Гулд знаменит утверждал, что “не было биологических изменений у людей за 40 000 или 50 000 лет. Все, что мы называем культурой и цивилизацией, мы построили с тем же телом и мозгом.” Аналогично, когнитивный ученый Дэвид Дойч недавно заявил, что доисторические люди были “нашими равными в умственных способностях; разница чисто культурная.” Эта догма чистого листа – идея, что эволюция чудесным образом остановилась для человеческого мозга, продолжая идти для таких черт, как устойчивость к болезням или пигментация – теперь прямо противоречит доказательствам. Давайте рассмотрим основные контраргументы и почему они больше не выдерживают критики:
- “У людей не было времени эволюционировать когнитивно; 50 тысяч лет – это слишком короткий срок.” Этот аргумент недооценивает силу даже слабого отбора на протяжении многих поколений. В качестве мысленного эксперимента, представьте, что устойчивый селекционный дифференциал всего +1 балл IQ за поколение (значительно ниже шума тестов IQ) с наследуемостью ~0,5 сдвинет среднее значение на ~+0,5 балла IQ за поколение. За 400 поколений (≈10 000 лет) это +200 баллов IQ – очевидно, абсурдная экстраполяция. Суть в том, что если только отбор не был буквально нулевым в каждом поколении (чрезвычайно маловероятное совпадение), даже небольшое постоянное давление могло бы привести к значительным изменениям за десятки тысячелетий. Те, кто настаивает на “отсутствии изменений с плейстоцена”, фактически утверждают, что в течение более чем 2 000 поколений интеллект не давал никакого репродуктивного преимущества. Говоря прямо, единственный мир, в котором мозги наших предков замерли 50 тысяч лет назад, это мир, где интеллект не давал никакой фитнес-пользы – мир, который ни один охотник-собиратель или фермер не признал бы. Реалистично, более высокая когнитивная способность помогает людям решать проблемы, приобретать ресурсы и ориентироваться в социальных сложностях; маловероятно, что такая черта была бы эволюционно нейтральной во всех средах. Результаты древнего генома (Раздел 1) решительно показывают, что она не была нейтральной, а находилась под положительным отбором всякий раз, когда социоэкологические вызовы вознаграждали обучение, планирование и инновации.
- “Любые различия в когнитивных результатах обусловлены культурой, а не генами.” Культурные эволюционисты справедливо подчеркивают, что накопительная культура может значительно повысить человеческую производительность без генетических изменений – например, широкое образование может увеличить знания и результаты тестов в популяции (эффект Флинна). Однако культурная и генетическая эволюция не взаимоисключают друг друга; на самом деле они часто сотрудничают. Культура может создавать новые селекционные давления: например, культура молочного животноводства выбрала гены лактозы, и аналогично, переход к сложному аграрному обществу, вероятно, выбрал гены, способствующие абстрактному мышлению, самоконтролю и долгосрочному планированию. Как отмечает антрополог Джозеф Хенрих, “генетическая эволюция ускоряется последние 10 000 лет… реагируя на культурно сконструированную среду.” Наши геномы адаптировались к сельскому хозяйству, высокой плотности населения, новым диетам и болезням – почему бы им не адаптироваться к новым когнитивным требованиям этих сред? Культура смягчает некоторые селекционные давления, но усиливает другие (например, ценность численности и грамотности в сложных обществах создает фитнес-преимущество для тех, кто быстро учится). Действительно, теория коэволюции генов и культуры предсказывает, что такие черты, как общий интеллект, продолжат эволюционировать в ответ на новые вызовы. Эмпирические данные теперь подтверждают это: популяции с давними традициями плотных, технологически развитых обществ показывают более высокие частоты аллелей, связанных с образовательными достижениями, чем недавно контактировавшие охотники-собиратели. Культура и гены поднимались по лестнице вместе – это был цикл обратной связи, а не выбор между одним и другим.
- “Доисторические люди были такими же умными – посмотрите на древнее творчество и инструменты.” Нет сомнений, что люди 40 000 лет назад были умными в абсолютном смысле (они были биологически Homo sapiens, в конце концов). Но научный вопрос заключается в средних значениях и постепенных изменениях, а не в бинарном “умный против глупого.” Критики часто указывают на ранние символические артефакты (например, охровые пигменты, бусы из ~100 тысяч лет назад) как доказательство того, что когнитивная сложность была присутствовала задолго до 50 тысяч лет назад. Однако эти изолированные находки оспариваются – многие археологи видят в них сомнительные предшественники, с действительно взрывной инновацией (пещерное искусство, скульптура, сложные инструменты), появляющейся только в верхнем палеолите (~50–40 тысяч лет назад). Этот паттерн намекает на пороговое событие – возможно, биологическое когнитивное обновление (иногда гипотетически как генетическая мутация, влияющая на проводку мозга или язык). Если это так, то это на самом деле случай недавней эволюции: некоторое наследуемое изменение могло бы позволить “Великому скачку вперед” в культуре. Более общо, хотя древние индивиды, безусловно, были способны, это не означает, что все популяции во все времена имели идентичный генетический потенциал. Эволюция не останавливается на финишной черте “современного человеческого поведения.” Например, показательно, что самые ранние цивилизации и письменные языки возникли в определенных регионах (Плодородный полумесяц, Желтая река и т.д.) после тысячелетий земледелия – именно те популяции, которые наши генетические данные показывают, имели самый сильный отбор на аллели EA/IQ. Это не значит, что эти ранние фермеры были изначально умнее собирателей в других местах – это значит, что они начали становиться немного умнее через эволюцию в тандеме с их культурным преимуществом. Теперь у нас есть древние ДНК временные ряды, показывающие, что когнитивные PGS оставались стабильными в чисто охотничье-собирательских популяциях на протяжении тысячелетий, но начали расти, как только появились земледелие и государственные общества. По сути, человеческая когнитивная эволюция продолжалась, скромно, но измеримо, везде, где культурная сложность увеличивалась.
- “Размер мозга на самом деле уменьшился; разве это не означает меньший интеллект?” Это правда, что средний объем мозга Homo sapiens сегодня (~1350 куб. см) ниже, чем у людей верхнего палеолита (~1500 куб. см). Некоторые антропологи утверждают, что это указывает на процесс самодоместикации, делающий нас более покорными и, возможно, глупее (сравнивая нас с домашними животными с меньшими мозгами, чем у их диких предков). Однако размер мозга лишь слабо коррелирует с IQ (у современных людей корреляция составляет ~0,3–0,4). Качество и организация нейронных цепей имеют большее значение. Вполне возможно, что наши мозги стали более компактными, но более эффективными – возможно, отражая сдвиг от сырой визуально-пространственной способности к более специализированным корковым сетям для сложного мышления. Генетические данные поддерживают эту интерпретацию: несмотря на небольшое снижение черепного объема в голоцене, аллели, улучшающие когнитивную функцию, росли. Например, одно исследование древнего генома отмечает, что многочисленные гены развития мозга (помимо просто регуляторов размера головы) находились под отбором. Мы можем сравнить это с компьютерными чипами: наше “аппаратное обеспечение” стало меньше в некоторых отношениях, но наше “программное обеспечение” (нейронная связность и настройка нейротрансмиттеров) получило обновление. Кроме того, меньший мозг в контексте доместикации и сотрудничества может снизить энергопотребление и риски при рождении, в то время как социальный интеллект увеличивается. В любом случае, скромное снижение полигенных баллов ICV (порядка 0,1 стандартного отклонения за 10 000 лет) явно не помешало росту когнитивных способностей. Это нюансированный эволюционный компромисс, а не просто упадок. (И как шутливое возражение: если кто-то действительно считает, что мы все стали глупее с ледникового периода, то он должен признать, что мозг подвергся генетическим изменениям – подрывая основное утверждение “нет эволюции” с самого начала.)
- “Различия в результатах сегодня полностью обусловлены окружающей средой, так что гены не могут быть вовлечены.” Этот аргумент часто исходит из похвальной осторожности против генетического детерминизма, но он путает текущее разнообразие с историческими изменениями. Да, тот факт, что (например) уровни грамотности различаются из-за доступа к образованию, ничего не говорит о том, изменились ли гены за столетия. Можно полностью признать огромную роль окружающей среды (эффект Флинна повысил баллы IQ >2 стандартных отклонения во многих странах благодаря образованию, питанию и т.д.), одновременно признавая основные тенденции частоты генов. На самом деле, современные наблюдения представляют собой резкое предупреждение: фенотип и генотип могут двигаться в противоположных направлениях. Пример – в 20 веке измеренный IQ в развитых странах рос (эффект Флинна), даже когда генетический отбор был против более высокого IQ (из-за дифференциальной фертильности). Один недавний анализ данных о здоровье и пенсии в США оценивает, что генетический отбор снизил когнитивный полигенный балл населения примерно на 0,04 стандартного отклонения за поколение в середине 20 века – примерно эквивалентно потере ~0,6 балла IQ за поколение из-за дисгенетических тенденций, даже когда фактические результаты тестов росли благодаря улучшениям окружающей среды. Другими словами, культура может маскировать или перевешивать генетику в краткосрочной перспективе. Но за сотни поколений, если отбор последовательно благоприятствует или не благоприятствует определенным аллелям, генетический сигнал в конечном итоге проявится. Отрицание долгосрочной эволюции, указывая на краткосрочные эффекты окружающей среды, является логической ошибкой. Оба фактора действовали: окружающая среда формирует выражение интеллекта, в то время как эволюция медленно, но верно формировала распределение генов, способствующих интеллекту.
В заключение, устоявшаяся антропологическая позиция, что “ничего не изменилось со времен каменного века”, несостоятельна в свете современных данных. Эта позиция сохранялась скорее как идеологическая приверженность человеческому равенству и исключительности, чем как проверяемая гипотеза – она была, как выразился один комментатор, “выживающей по указу, а не по данным.” Сегодня у нас есть данные. Древние геномы, сканирования отбора и количественная генетика сошлись, чтобы показать, что человеческая когнитивная эволюция действительно продолжалась в голоцене и даже в историческую эпоху. Изменения были постепенными, не превращая наших предков в идиотов (они явно были достаточно умны, чтобы выживать и изобретать), но они были направленными – опровергая идею о плоском интеллектуальном ландшафте, замороженном во времени.
Уравнение селекционера, пороги и долгосрочные изменения#
Уравнение селекционера из количественной генетики предоставляет простой способ количественно оценить, сколько эволюционных изменений мы ожидаем в черте под отбором. Оно гласит:
[\Delta Z = h^2 , S]
где ΔZ – это изменение среднего значения черты за поколение, h² – наследуемость черты, а S – селекционный дифференциал (разница в среднем значении черты между размножающимися индивидами и общей популяцией). Эта элегантная формула – по сути, одношаговый прогноз ответа на отбор – имеет глубокие последствия, когда она распространяется на многие поколения, особенно для высокополигенной черты, такой как интеллект.
Давайте разберем это в контексте человеческих когнитивных черт:
- Даже слабый отбор может иметь большие эффекты, если дать ему достаточно времени. Предположим, что у популяции есть очень скромный положительный селекционный дифференциал на интеллект – скажем, родители в среднем всего на 0,1 стандартного отклонения (около 1,5 балла IQ) выше среднего значения популяции. Даже при умеренной наследуемости 0,5, каждое поколение средний IQ будет сдвигаться на ΔZ = 0,5 * 0,1 = 0,05 стандартного отклонения (~0,75 балла IQ). Это кажется незначительным – едва заметным за одно поколение. Но сложите это за 100 поколений (≈2 500 лет): если среда и режим отбора оставались бы примерно постоянными, вы накопили бы ~5 стандартных отклонений изменений (0,05 * 100) – т.е. увеличение IQ на 75 баллов! Конечно, в реальности силы отбора ослабевают и усиливаются; также могут быть компромиссы, ограничивающие бесконечные изменения. Но основное понимание заключается в том, что эволюционная инерция – это миф – небольшие направленные толчки, если они устойчивы, приводят к очень большим результатам. Наш 50 000-летний временной интервал охватывает ~2 000 человеческих поколений. Это достаточно времени для значительной когнитивной эволюции, даже при слабых селекционных давлениях.
- Обратный отбор также может разрушить достижения. Та же математика применима в противоположном направлении. Как отмечалось выше, в 20 веке селекционный дифференциал на образование/IQ стал отрицательным во многих обществах (из-за сочетания факторов, таких как более низкая фертильность у людей с высоким образованием). Оценки из геномных данных в США предполагают S ≈ –0,1 стандартного отклонения для EA в последние поколения, что подразумевает ΔZ ≈ –0,05 стандартного отклонения за поколение генотипически. Всего за 10 поколений (~250 лет) это накопится до изменения –0,5 стандартного отклонения, отменяя, возможно, ~7 или 8 баллов IQ генетического потенциала. Это не просто гипотетически – это траектория, на которой мы эмпирически находимся. Таким образом, уравнение селекционера предсказывает не только быстрый рост черты под положительным отбором, но и ее снижение при ослаблении или развороте отбора. Эта двойственность имеет решающее значение для интерпретации прошлого. Если кто-то утверждает, что когнитивной эволюции не было в доисторические времена, он фактически требует, чтобы отбор был идеально нулевым или симметрично колеблющимся, чтобы компенсировать за тысячи поколений – чрезвычайное совпадение. Учитывая, как быстро мы уже можем обнаружить генетические снижения IQ за последние два поколения, было бы особым прошением предполагать, что доисторический отбор никогда не склонялся положительно для IQ. Напротив, он, вероятно, часто склонялся положительно (например, когда более умные индивиды лучше выживали в трудные времена или достигали более высокого статуса в стратифицированных обществах), что привело к восходящей генетической тенденции, теперь зафиксированной в древней ДНК.
- Пороговые модели и нелинейные скачки: Один нюанс, часто поднимаемый, заключается в том, что некоторые когнитивные способности могут вести себя как пороговые черты – у вас либо “достаточно” некоторой нейронной цепи для поддержки способности, либо нет. Язык – классический пример, обсуждаемый в этом ключе: возможно, постепенные увеличения общего интеллекта мало что делают, пока не пересечен порог, позволяющий синтаксическую рекурсию или истинное символическое мышление, после чего фенотип качественно меняется (фазовый переход). Если такие пороги существуют, отбор может иметь нелинейные эффекты. Популяция может видеть относительно мало видимых изменений на протяжении поколений, затем внезапное расцветание новых поведений, как только генетическое накопление толкает черту за критическую точку. Археологический “сапиентный парадокс” – разрыв между анатомически современными людьми ~200 тысяч лет назад и культурным взрывом ~50 тысяч лет назад – может отражать эту динамику. Сдвиг +5 стандартных отклонений в пороговой когнитивной черте – это не просто “больше того же” – это может означать разницу между отсутствием письменного языка и спонтанным изобретением письменных систем, или между каменным веком и промышленной революцией. Эта перспектива опровергает утверждение, что несколько стандартных отклонений генетических изменений не имеют значения. На самом деле, рассчитанный рост когнитивных PGS на +0,5 стандартного отклонения с раннего голоцена, если его сопоставить с определенными основными способностями, мог бы быть разницей между миром с только редкими земледельческими деревнями и миром, полным цивилизаций. Вкратце, небольшие генетические изменения могут подготовить почву для больших культурных прорывов, как только пороги будут пройдены. Человеческая эволюция, вероятно, представляет собой смесь постепенных тенденций и этих точек перелома.
- Многомерная версия Ланде – коррелированные ответы: Уравнение селекционера обобщается на несколько черт через уравнение Ланде, (\Delta \mathbf{z} = \mathbf{G} \boldsymbol{\beta}), где G – это матрица генетической ковариации, а β – вектор градиентов отбора на каждую черту. Ключевой вывод заключается в том, что вы можете получить ответ в черте Z, не выбирая Z напрямую, если Z генетически коррелирует с какой-то чертой X, которая находится под отбором. Примените это к интеллекту: даже если наши предки не “пытались” стать умнее, отбор на прокси или корреляты мог бы сделать это косвенно. Например, рассмотрим социальный статус или богатство в сложном обществе. Если более высоко-IQ индивиды, как правило, достигали более высокого статуса или накапливали больше ресурсов, и эти индивиды имели больше потомства, то гены для интеллекта были бы “втянуты” отбором на социальный успех. Это, по сути, тезис Грегори Кларка в “Прощай, изобилие” (2007) – что в средневековой Англии экономически успешные (которые, по его аргументу, были более благоразумными, образованными и, возможно, когнитивно способными) превосходили бедных, постепенно изменяя черты популяции. Теперь у нас есть генетические доказательства, поддерживающие этот вид коррелированного ответа: в недавнем анализе древних геномов из Англии (1000–1850 гг. н.э.) полигенные баллы для образовательных достижений значительно увеличились за эти столетия, подразумевая генетический отбор, благоприятствующий чертам, которые делали человека успешным в этом обществе. Важно, что средневековые крестьяне не сидели, выбирая партнеров по IQ; скорее, отбор действовал через жизненные результаты (грамотность, богатство, плодовитость), которые оказались генетически коррелированными с когнитивной способностью. Аналогично, отбор на устойчивость к болезням или другие фитнес-черты мог бы иметь случайные когнитивные эффекты. (Есть доказательства, например, что аллели риска шизофрении могли быть выбраны против, потому что они снижают общую биологическую пригодность, и поскольку они перекрываются генетически с когнитивной функцией, их удаление подталкивает среднюю когнитивную способность вверх.) В эволюционной генетике каждая черта, связанная в сети, может двигаться, если какая-либо часть сети тянется. Гены человеческого интеллекта не эволюционировали в изоляции; они “ехали на хвостах” многих селекционных сил – от адаптации к климату до сексуального отбора на определенные личности – все фильтровалось через структуру генетической ковариации. Конечным результатом был устойчивый марш в нашем когнитивно-полигенном индексе, даже если “сделать мозги умнее” никогда не было единственной целью отбора.
Чтобы подкрепить это числами, рассмотрим, что нам говорит древняя ДНК. Полигенные оценки когнитивных способностей (используя GWAS-хиты для IQ/EA) увеличились примерно на 0,5 стандартных отклонения с раннего голоцена до наших дней. Если предположить (щедро), что эти оценки объясняют, скажем, ~10% дисперсии в фактической черте, увеличение генотипа на 0,5 SD может привести к ~0,16 SD фенотипического увеличения (грубая оценка, поскольку истинная предсказательная сила текущих GWAS-хитов для IQ находится в этом диапазоне). 0,16 SD — это около 2,4 баллов IQ. Не так много — но это за 10 000 лет. За 50 000 лет, если тенденция была бы постоянной, это могло бы составить порядка 12 баллов IQ. Интересно, что некоторые палеоантропологи предположили, что люди верхнего палеолита (которые оставили после себя относительно простые инструменты) действительно могли иметь несколько более низкую среднюю когнитивную способность к символическому мышлению, чем люди позднего голоцена — разница, которую вы не заметите в повседневных навыках выживания, но достаточная, чтобы повлиять на скорость инноваций. Независимо от того, насколько точна эта конкретная величина, уравнение селекционера уверяет нас, что крупные кумулятивные изменения возможны при небольшой постоянной селекции, и данные древней ДНК теперь подтверждают траекторию, в целом соответствующую теоретическим ожиданиям (например, S порядка 0,2 балла IQ за поколение могло бы аккуратно объяснить наблюдаемые нами геномные сдвиги за ~400 поколений).
Современные тенденции селекции и их исторические последствия#
Изучение продолжающейся эволюции у современных людей предоставляет отрезвляющий контрапункт — и подсказку к прошлым режимам. В конце 20-го и начале 21-го века большинство индустриализированных популяций пережили обратный процесс селекции по когнитивным чертам. С контрацепцией, улучшением выживаемости детей и изменением ценностей, прежняя положительная корреляция между интеллектом и фертильностью изменилась на отрицательную. Например, всеобъемлющий мета-анализ Линна (1996) обнаружил среднюю корреляцию IQ–фертильность около –0,2 по десяткам наборов данных, что подразумевает около –0,8 баллов IQ селекции за поколение против g. Более прямые геномные подходы подтверждают это: Хью-Джонс и коллеги (2024) изучили фактические полигенные оценки в семьях США и сообщили, что “оценки, которые положительно коррелируют с образованием, подвергаются селекции против,” что приводит к оценочному генетическому изменению –0,055 SD за поколение в когнитивной способности. Это переводится примерно в –0,6 баллов IQ, теряемых генетически каждое поколение. Важно, что эти выводы получены из периода беспрецедентной медицинской и социальной поддержки — расслабленной селекционной среды по историческим стандартам. Тем не менее, даже в этом комфортном контексте естественный отбор на геномном уровне не исчез; он просто принял другой оборот (предпочитая черты, связанные с более ранним деторождением и более низким уровнем образования).
Почему это важно для прошлого? Потому что это демонстрирует, что человеческие популяции никогда не находятся в эволюционно нейтральном равновесии. Селекция всегда происходит в какой-то форме, даже если современное общество скрывает ее эффекты с помощью технологий. Если в самой легкой эпохе существования человека мы можем измерить направленное генетическое изменение за одно столетие, насколько более мощной могла быть селекция в более суровые эпохи? Исторически, высокий интеллект мог быть палкой о двух концах: он мог способствовать приобретению ресурсов (повышая приспособленность), но также, в определенных контекстах, сопровождаться компромиссами (возможно, небольшой склонностью к неврологическим или психиатрическим проблемам). Однако в доиндустриальные времена баланс, по-видимому, чаще склонялся в пользу более высокого интеллекта:
- Историческая положительная селекция (случай “разведения для мозгов”): Многие ученые указывали на демографические модели в аграрных обществах, где высшие классы — часто обладающие большим доступом к питанию, образованию и, возможно, с более высоким средним интеллектом — имели больше выживших потомков, чем низшие классы. Анализ Грегори Кларка английских семейных линий (по завещаниям и записям) показал, что экономически успешные в средневековой Англии имели примерно в 2 раза больше выживших детей, чем бедные, что привело к медленному распространению “среднеклассовых” генов в общей популяции. Черты, подвергавшиеся селекции в этой модели, включали грамотность, дальновидность, терпение и когнитивно связанные наклонности (то, что Кларк назвал “человеческим капиталом верхнего хвоста”). Генетические данные теперь подкрепляют этот нарратив. Недавнее исследование древней ДНК специально проверило гипотезу Кларка, изучая полигенные оценки в останках из средневековой и ранне-современной Англии. Результаты: “статистически значительная положительная временная тенденция в полигенных оценках образовательной успеваемости” с 1000 г. н.э. по 1800 г. н.э. Величина увеличения этих генотипических оценок, хотя и скромная, “достаточно велика, чтобы служить способствующим фактором для промышленной революции.” Проще говоря, английская популяция генетически немного продвинулась в чертах, способствующих обучению и инновациям, что может помочь объяснить, почему эта популяция была готова к беспрецедентному экономическому/культурному взрыву к 18 веку. Это мощное подтверждение идеи, что естественный отбор не остановился на палеолите — он формировал когнитивные способности вплоть до раннего современного периода.
Полигенные оценки (PGS) для когнитивных и социальных черт в средневековых и современных английских геномах. Желтые коробки (современные образцы) последовательно выше, чем фиолетовые (средневековые) для индексов образовательной успеваемости (EA) и IQ, указывая на генетический сдвиг в пользу этих черт за последние ~800 лет. Такие находки эмпирически поддерживают теории, что скромная селекция в исторических обществах накопилась в значительные различия.
- Ген-культура “маятниковые колебания”: Паттерн со временем может быть цикличным или зависеть от окружающей среды. В чрезвычайно сложных условиях (например, тундра ледникового периода или пионерские фермерские сообщества) выживание могло больше зависеть от общего интеллекта — способности изобретать новые инструменты, запоминать местоположения пищи или планировать на зиму — поэтому селекция по IQ была сильной. В более стабильные процветающие периоды другие факторы (например, социальные альянсы или физическое здоровье) могли иметь большее значение, ослабляя селекцию по IQ. Перенесемся в постиндустриальную эпоху, и мы видим сценарий, где образ жизни, требующий интенсивного образования, фактически коррелирует с более низким репродуктивным выходом (по социокультурным причинам), переворачивая селекцию на отрицательную. Это предполагает, что направление селекции по когнитивным чертам не было единообразным во времени или пространстве, но общая долгосрочная тенденция была восходящей, потому что в течение долгого периода доистории и ранней истории каждое нововведение или экологический вызов создавали новые преимущества для больших мозгов или лучших умов. К тому времени, когда мы достигаем современной эпохи, мы находимся в новой среде (легкое выживание, сознательное планирование семьи), где эта тенденция изменилась. Если мы думаем в терминах уравнения селекционера за весь 50 000-летний период, первые ~49 000 лет внесли много небольших положительных ΔZ, а последние несколько столетий могут вносить небольшой отрицательный ΔZ. Сумма все еще положительна в пользу более высокого интеллекта по сравнению с палеолитическим базисом.
- Современная генетическая нагрузка против прошлой оптимизации: Другой угол зрения — рассмотреть мутационную нагрузку и роль селекции в очищении от вредных вариантов. Геном человека накапливает новые мутации каждое поколение, многие из которых нейтральны или слабо вредны. Некоторая доля, вероятно, негативно влияет на нейроразвитие. В условиях высокой смертности и высокой селекции в прошлом, индивиды с большей нагрузкой вредных мутаций (включая те, которые вредят функции мозга) могли быть менее склонны к выживанию или размножению, тем самым поддерживая “качество” генетики популяции для интеллекта на высоком уровне. В современных популяциях расслабленная селекция позволяет сохраняться большей мутационной нагрузке (гипотеза для объяснения растущей распространенности некоторых расстройств). Это может означать, что древние группы были генетически более оптимизированы для сурового мира — иронично более “приспособлены” в дарвиновском смысле — тогда как сегодня мы несем больше слабо вредных аллелей (которые могут слегка ухудшать средний когнитивный потенциал). Геномные исследования действительно обнаружили сигналы, согласующиеся с очищающей селекцией, действующей на гены, связанные с интеллектом в прошлом (например, аллели, снижающие когнитивную функцию, как ожидается, находятся на низкой частоте, если селекция их устраняла). Эта перспектива подчеркивает, что эволюционные давления, вероятно, укрепляли нашу когнитивную архитектуру на протяжении всей доистории, удаляя худшие мутации и иногда предпочитая новые полезные. Наше текущее время, напротив, может терпеть растущую нагрузку, которую селекция раньше сдерживала. Это подразумевает, что доисторические люди могли быть ближе к своему теоретическому генетическому потенциалу для интеллекта, чем мы начинаем быть в условиях расслабленной селекции — обратное, которое только подчеркивает, насколько неестественным является предположение “селекция = 0”.
Интегрируя все линии доказательств: человеческий интеллект был и остается движущейся целью. Древняя ДНК подтверждает рост когнитивных полигенных оценок на протяжении тысячелетий, в то время как современные данные документируют недавнее падение. Обе тенденции относительно незначительны за поколение — несколько десятых процента изменения — но в течение глубокого времени они складываются решительно. Это, откровенно говоря, удивительно, что некоторые до сих пор утверждают, что наши умы существуют в пузыре эволюционного застоя, невосприимчивом к силам, которые формировали каждый другой аспект жизни. Реальность такова, что мы очень даже продукт этих сил. Быстрый культурный прогресс нашего вида за последние 50 тысячелетий не был чисто культурным феноменом, происходящим на генетически неизмененной основе; это был коэволюционный марш. Каждое достижение изменяло наш селекционный ландшафт, к которому наши геномы затем медленно адаптировались, позволяя дальнейшие достижения, и так далее.
По состоянию на 2025 год, вердикт популяционной генетики, древней геномики и количественной биологии вынесен: человеческие когнитивные черты действительно эволюционировали измеримо в недавнем эволюционном прошлом. Взгляд “чистого листа”, который рассматривал человеческий мозг как постоянную с верхнего палеолита, оказывается вежливой фикцией — одной, которая могла быть политически утешительной, но не научно корректной. Интеллект, как и любая другая сложная черта, реагировал на селекцию. Уравнение селекционера теоретически научило нас, что 50 000 лет — это достаточно времени для изменений; теперь древняя ДНК показала нам эмпирически, что такие изменения произошли. В некотором смысле, это не должно быть удивительно — было бы гораздо более удивительно, если бы черта, столь важная для приспособленности, как когнитивная способность, не подвергалась направленной селекции, когда ранние люди сталкивались с новыми вызовами (от климатов ледникового периода до сельскохозяйственного образа жизни).
Что это значит для нас сегодня? Одно из следствий заключается в том, что человеческое разнообразие в когнитивных способностях (среди индивидов и популяций) вероятно имеет некоторый сигнал эволюционной истории, а не только недавней среды, за собой — тема большой чувствительности, но которую необходимо подходить с честностью и нюансами. Другое следствие заключается в том, что замечательные достижения нашего вида — искусство, наука, цивилизация — были построены на медленно меняющемся генетическом холсте. Если бы мы остались с точно таким же “телом и мозгом” 50 000 лет назад, спорно, была бы ли возможна масштаб современной цивилизации. И, глядя вперед, поскольку селекционные давления теперь меняются (или даже обращаются вспять), мы должны учитывать долгосрочную генетическую траекторию черт, которые нам важны. Будет ли будущий человек генетически менее склонен к абстрактному интеллекту, если текущие тенденции продолжатся, и если да, то как общество может компенсировать это? Это больше не вопросы праздного размышления, а информированные реальными данными.
Чтобы заключить на “штрауссовой” ноте: Признание того, что человеческая когнитивная эволюция продолжается (и была недавней), не должно быть тревожным — это утверждение нашего места в ткане природы. Вовсе не умаляя человеческого достоинства, это обогащает нашу историю: наши предки не были статичными placeholders для нас, они были активными участниками в формировании того, чем станет человечество, как через культуру, так и через гены. Реальность последних 50 000 лет такова, что эволюция не остановилась, когда началась культура. Люди создали культуру, культура создала эволюцию, и танец продолжается. Чистый лист вышел; число (или скорее, полигенная оценка) вошло. Мы все еще эволюционируем — и да, это включает наши мозги.
Источники#
- Akbari, A. et al. (2024). “Pervasive findings of directional selection…ancient DNA…human adaptation.” (bioRxiv preprint) – Доказательства >300 локусов под селекцией у западных евразийцев, включая полигенные сдвиги в чертах когнитивной производительности.
- Piffer, D. & Kirkegaard, E. (2024). “Evolutionary Trends of Polygenic Scores in European Populations from the Paleolithic to Modern Times.” Twin Res. Hum. Genet. 27(1):30-49 – Сообщает о росте PGS для IQ, EA, SES за 12 тыс. лет в Европе; когнитивные оценки +0,5 SD с неолита, наряду с снижением PGS для невротизма/депрессии из-за генетической корреляции с интеллектом.
- Piffer, D. (2025). “Directional Selection…in Eastern Eurasia: Insights from Ancient DNA.” Twin Res. Hum. Genet. 28(1):1-20 – Находит параллельные паттерны селекции в азиатских популяциях: IQ и EA PGS увеличиваются через голоцен, отрицательная селекция на шизофрению/тревожность, положительная на аутизм (согласуется с европейскими результатами).
- Kuijpers, Y. et al. (2022). “Evolutionary trajectories of complex traits in European populations of modern humans.” Front. Genet. 13:833190 – Использует древние геномы, чтобы показать постнеолитическое увеличение генетического роста и интеллекта, подтверждая продолжение селекции на эти полигенные черты.
- Hugh-Jones, D. & Edwards, T. (2024). “Natural Selection Across Three Generations of Americans.” Behav. Genet. 54(5):405-415 – Документирует продолжающуюся отрицательную селекцию против EA/IQ аллелей в США 20-го века, оценивая ~0,039 SD за поколение снижение фенотипического потенциала IQ.
- Discover Magazine (2022) on Gould’s quote: “Human Evolution in the Modern Age” by A. Hurt – Цитирует утверждение Гулда о “отсутствии изменений за 50 000 лет” и отмечает, что большинство эволюционных биологов теперь не согласны, указывая на примеры недавней адаптации человека.
- Henrich, J. (2021). Interview in Conversations with Tyler – Обсуждает культурную эволюцию и признает обратную связь ген-культура, отмечая, что генетическая эволюция ускорилась в больших популяциях за последние 10 тыс. лет (например, селекция на голубые глаза, толерантность к лактозе).
- Clark, G. (2007). A Farewell to Alms. Princeton Univ. Press – Предложил идею дифференциального размножения в доиндустриальной Англии, ведущего к генетическим изменениям (поддержано Piffer & Connor 2025 preprint: генетические EA оценки росли 1000–1850 гг. н.э. в Англии).
- Woodley of Menie, M. et al. (2017). “Holocene selection for variants associated with general cognitive ability.” (Twin Res. Hum. Genet. 20:271-280) – Раннее исследование, сравнивающее небольшой набор древних геномов с современными, предполагающее увеличение аллелей, связанных с когнитивной функцией со временем, закладывающее основу для более крупных анализов.
- Hawks, J. (2024). “Natural selection on the rise.” (John Hawks Blog) – Обзор новых находок древней ДНК, включая результаты Akbari et al., и подчеркивает, как эти данные подтверждают ускорение человеческой эволюции в голоцене (как предсказывали Хокс и сотрудники в 2007 году).